Желание написать рецензию появилось почти сразу, как в руки попала книга «Гродноведение. История европейского города», изданная в 2012 году. Однако этому мешала та политическая суета, что начала происходить вокруг её авторского коллектива (и, надо отметить, при его самом активном участии). Теперь, когда страсти немножко утихли, можно прибегнуть к спокойному анализу содержания этого издания.
Выход пособия в свет был обставлен помпезно и запоминающе. «Дружеская» критика презентовала издание как шикарное, основательное и новаторское по форме подачи материала. Действительно, сама книга хорошо иллюстрирована. В ней предпринята попытка проанализировать весь большой краеведческий материал, накопленный по истории возникновения и развития Гродно — одного из красивейших и древних белорусских городов. Безусловной заслугой создателей книги является рассказ об археологических находках, архитектурном наследии Гродно. Однако, разумеется, это никоим образом не могло оградить авторов от ошибок и определённых нелепостей. Миновать их вниманием либо замолчать было бы нечестно, по крайней мере, в отношении самих авторов.
Первое, что бросается в глаза, — огромное количество ошибок. Явление странное, ведь фактически это уже третье издание книги, хотя и значительно поправленное. Правда, поправляют обычно в лучшую сторону, а не наоборот.
С чего бы начать? Тут буквально что ни страничка, то какой-то курьёз. На с. 10 в рубрике «Факты истории» читаем: «В 1918 г. во время существования Белорусской Народной Республики официально употреблялось название «Гродно». На здании Гродненского железнодорожного вокзала имелась соответствующая надпись». А сверху над текстом помещена известная фотография тех самых времён, правда, обозначенная 1919 годом, где чёрным по белому написано: «комендант М. Городно». И как разобраться бедному читателю, какое же название использовали во времена БНР?
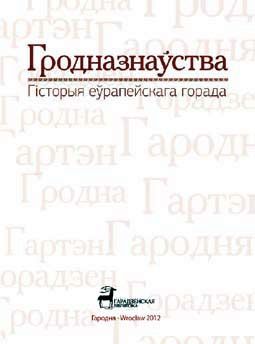
Также не понятно, почему вместо современной литературной формы «яўрэі» в издании упорно используется историзм «габрэі», характерный для старого правописания – т. н. «тарашкевицы». Возможно, авторы отдают ей предпочтение, но в таком случае нужно всю книгу писать на «тарашкевице», а не отдельные слова. А так получилось ни то ни сё — ни в городе Богдан, ни в селе Селифан.
Насколько можно понять из текста, создатели книги единодушны в своей нелюбви к России, возможно, поэтому они всё никак не могут определиться, как же называть соседнюю страну. В скромной заметке о Петре Великом (с. 117) они сразу использовали два варианта написания: Пётр был «русский царь», но проводил реформы уже в «Русском государстве». Не совсем хорошо у создателей книги и с иностранными языками. На с. 59 приводится французское название башни-донжона — «dojon». Понятно, что здесь пропущена буква «n».
Много в книге и терминологических, фактологических ошибок. Даже при описании войны 1812 года (а ведь это конёк Вячеслава Шведа, идейного вдохновителя «Гродноведения»»). На с. 158 читаем, что 4 июля Гродненская Конфедерация была созвана Жозефом Бонапартом. А на с. 162 то же самое дело приписано другому брату Наполеона – Жерому. И его портрет. Где же здесь правда? Разумеется, в Гродно находился Жером, король Вестфальский, так как Жозеф правил в это время Испанией. Хотя и здесь можно сказать, что это «описка». Что Жером, что Жозеф… как говорил Горлохватский у крапивы, попутав геологические периоды: «видите, я считаю, что Пензенский и Пермский – это ровно».
Кто-то может бросить рецензенту обвинение, как сделал другой персонаж упомянутой комедии: «это просто придирка к слову». Возможно, можно было бы посчитать и так, если бы не количество таких «мелочей». На самом деле, это свидетельство небрежности, неряшливости при подготовке книги, что отразилось не только на правописании и уважении к родному языку. Кстати, надо назвать имена тех людей, на чьей совести столько ошибок разного рода, как стилистических, орфографических, так и фактологических: Виталий Корнелюк, Вячеслав Швед (Редакторы), Анатолий Богдевич (корректура). Уважаемые, вам «неудовлетворительно». Свою работу нужно делать более ответственно!
Авторам нельзя отказать в самовосхвалении и даже каком-то научном эгоцентризме. В списке рекомендуемой литературы пропущены (надо думать, намеренно) некоторые издания, имеющие непосредственное отношение к истории Гродно [1; 2]. Зато упомянуты работы узкоспециальные, в которых история города затрагивается лишь косвенно, однако к их созданию приложили руку сами авторы издания [3; 4].
Что касается самовосхваления, то здесь создателям книги иногда не хватает чувства меры. На с. 12-14 приводятся различные версии происхождения названия города. Авторство двух из них приписано Вячеславу Шведу и Алесю Гостеву. А вот открываем энциклопедический справочник «Гродно», изданный в Минске в 1989 году, и в статье «Городня» читаем все те самые версии [5, c. 137–138]. Однако по понятным причинам имён вышеназванных историков среди тех, кто работал над справочником, не находим. Правда, вынужден извиниться: я сказал, что помещены те самые версии. По сути так, однако по форме энциклопедическое издание стоит на вершине стиля и логики, в отличие от «гипотезы» В. Шведа. Этот текст достоин того, чтобы его процитировать. Исследователь утверждает, будто Гродно получило своё название от реки Гродно (другие названия её Городница, Городничанка), а дальше просто шедевр: «Возникает вопрос: «А почему так называется река?» Оказывается, что городня — это прямоугольный сруб из брёвен или брусьев, который заполнен внутри землёй и камнем. Как опоры городни использовались для строительства моста — на них ложился настил. Мост через Нёман и сегодня, как и в средневековье, находится вблизи Замковой горы; мост XVII в. — через Замковый ров — соединяет Старый и Новый замки. Городни в XII веке образовывали стены деревянного замка. Плотно поставленные друг к другу торцами, они составляли оборонительную стену. А перед этим на земляном валу могли быть временные городни из тонких жердей, заплетённых, как огромный плетень, около вертикально вбитых в землю столбов. Посмотрите на герб Гродно – на нём есть изображение плетня (ограды). Доказательством того, что представленная версия соответствует реальности, является, например, название части средневековой Москвы. В 1534 году вокруг её Большого Посада вырыли ров и на его валу построили новую крепость Китай-город. Она была огорожена городнями из жердей, засыпанных землей. Отсюда и название, ведь кита — это связка жердей. Подобное происходило и в Городни (Горадене). Да и речушка с таким названием текла возле этих укреплений. Во время нападения на город врагов можно было услышать возгласы: «За городню!» или «Прячьтесь за городни!» Вот и прижилось за городом это название!»
Ну и каша! Так речка получила название от моста или от замковых стен? Кстати, обычно мосты называются от реки, а не наоборот. И причём здесь мосты XVII века и Московская кита XVI века? Речь же идёт о названии, возникшем в XII веке. В. Швед нагородил такой огород вокруг обычный городни, только чтобы «вписать» своё имя в историю. В энциклопедическом варианте всё выглядит понятнее и логичнее.

Тенденциозность авторов проявляется уже в первых параграфах книги, где рассказывается о древнерусском периоде. Правда, сам этот термин почему-то не употребляется, хотя в предыдущем издании «Гродноведения» был даже отдельный раздел «Гродно эпохи Киевской Руси (конец Х-середина ХІІІ вв.)» [6, c. 22–40].
И вот какой вывод делается после краткого рассмотрения истории Гродненского княжества: оно, «благодаря личным качествам его властителей, добилось определённой политической независимости и стало союзником Киева» (с. 47). И это относится ко временам Грозного великого князя Киевского Мстислава Великого! Понятно, что ни о каком равенстве с Киевом при Владимире Мономахе, а также его сыне Мстиславле, тем более такого княжества, каким было Гродненское, нельзя говорить. Б. Греков писал по этому поводу: «Малейшую попытку неповиновения себе Владимир искоренял и распоряжался другими князьями как своими подчинёнными… при Владимире и его сыне Мстиславле Киев вновь стал на некоторое время политическим центром большого феодального государства» [7, C. 604]. И очевидно, что Гродненская земля была неотъемлемой частью этого государства. Соглашаются с такой мыслью и другие исследователи Гродненской старины, более уверенные в отношениях между Киевом и Гродненским княжеством: «После многих междоусобных драк в IX в. в Восточной Европе образовалось первое русское государственное объединение — Киевская Русь. В Понёманье в IX-XII вв. были уже свои зависимые от Киева княжества: Гродненское, Слонимское, Новогрудское» [8, C. 7].
Здесь же помещена и странная «Карта белорусских земель в XI-XII вв.». На ней Туровская и Брестская земля обозначены как независимые от Киева уже в этот период, что не совсем верно, во всяком случае до середины XII века. А Гродненское княжество обозначено как часть Новогородской земли, хотя буквально на следующей странице авторы сами пишут, что Новогородок был уделом Гродненского княжества.
Для создания собственной концепции развития города в книге использован и такой приём, как замалчивание неприятных фактов. Например, читатель ничего не узнает о Гражданской войне 1432-1438 годов. А Гродно в тех событиях играл очень важную роль. Именно здесь 15 октября 1432 года была заключена уния между королём польским Владиславом II Ягайло и великим князем литовским Сигизмундом. Почему же такое важное событие осталось без внимания авторов? А потому, что она значительно подрывает образ «величественного государства» ВКЛ и даёт более объективное представление о настоящем положении Великого княжества в системе международных отношений того периода.
В соответствии с условиями унии, за королём польским закреплялся титул «верховный князь литовский», а властитель ВКЛ, вместе со своими вассалами, приносил присягу на верность польской короне. Само княжество признавалось наследственным владением Ягайло и его потомков. Таким образом, ВКЛ фактически становилось Леном Королевства Польского. Более того, Польше передавались и значительные территории: Подолье и часть Волыни.
Еще одно «белое пятно» книги — это юридики. Известно, что авторы представляют великолепную картину жизни города по Магдебургскому праву, подаренному Гродно в полном варианте в 1496 году. Юридики, административно независимые, обособленные части города, принадлежавшие феодалам и на которые не распространялась власть местного самоуправления, упомянуты в книге (с. 74, 75, 78, 335), но фрагментарно, поэтому у читателя может сложиться впечатление, что это были какие-то островки посреди необъятного моря Магдебургской вольности. На деле в Гродно было сразу несколько юридик: Замковая, плебана, шляхты, архимандрита Гродненского монастыря и т.д. они охватывали значительную часть города. В 1561 году в Старом городе по левой стороне Нёмана плебану из 543 принадлежало 64 дома и участки (более 11 %), на Плебанской улице – 27 семей, Виленскому воеводе – 15 участков (3 %). В 1544 году городской совет жаловался на то, что староста забрал под свою власть мещан и ремесленников – чуть ли не половину всего города [9, C. 34–35]. Согласитесь, только перечисление этих фактов оставляет несколько иное впечатление о положении в Магдебургском Гродно, чем это отражено в издании.
Иногда даже трудно понять, что авторы подразумевают под той или иной формулировкой. Например, на с. 84 читаем: «Как вам уже известно, Гродно получил Магдебургское право, что содействовало его подъёму. Европеизация жизни в ВКЛ способствовала внедрению европейских традиций в градостроительстве». Интересно! А до этого в Гродно были азиатские или африканские традиции? Из дальнейшего текста можно узнать: под европейскими традициями подразумеваются прежде всего ратуша и торговые сооружения. Тогда получается, что Гродненская архитектурная школа эпохи Древней Руси — это не европейская традиция?!
Тенденциозность во всём! На с. 91 помещена гравюра М. Тюнта «Правдивая иллюстрация Гродно в Литве». Рядом имеется её описание: «Благодаря этой гравюре, мы — свидетели встречи 24 июля 1567 г. посольства Московского княжества к великому князю Литовскому и королю польскому Сигизмунду Августу». Такое впечатление, будто мы читаем не современных исследователей, а краковских или виленских придворных. Там, действительно, долгое время отказывались признавать за русскими монархами царский титул. Однако известно, что Иван Грозный короновался на царство ещё в 1547 году, и в современной историографии, в отличие от XVI века, этот факт не оспаривается. Но он, видимо, остался в стороне от авторов «Гродноведения». Не вспоминают они и об очень большом религиозном напряжении, существовавшем в городах ВКЛ в XVI-XVII веках, особенно после введения Брестской церковной унии 1596 года. Несмотря на то, что в книге есть отдельный подпараграф об этнорелигиозной ситуации, ничего не говорится, как власти Речи Посполитой «перековывали» преимущественно православный город. А делалось это очень жёстко. Были введены ограничительные меры: в 1673 году православные лишились права входить в шляхетское состояние, в 1676 году отменили привилегии православных братств и запретили православным выезжать за границу, в 1699 году православные потеряли право занимать выборные магистратские должности [10, C. 133].
В книге весьма ограниченно подаётся освободительное движение в Гродно во время польского господства в 1921-1939 годах, которому на с. 238 дана такая характеристика: «расширяются антигосударственные настроения непольского населения». В основном упоминается только вооружённая борьба середины 1920-х годов. Деятельность БСРГ посвящена только одному предложению. На иллюстрациях — преимущественно прекрасные барышни, счастливые дети, пара белорусских кружков и тому подобная пасторальная идиллия. Но было другой Гродно, которое боролся. В январе 1931 года более трёхсот горожан пришли к магистрату. Так произошла знаменитая в своё время «голодная блокада». И было из чего – при польской власти количество безработных в городе достигало трёх тысяч человек. В книжке вы не найдёте одного очень интересного фотоснимка — первомайской демонстрации 1936 года. Тогда на площадь Батория вышло более 4 тысяч горожан, включая 150 детей. Вся фотография расписана цифрами — это полицейские агенты устанавливали фамилии участников. Разумеется, нельзя было ожидать от авторов сведений о громких судебных процессах, происходивших в Гродно над борцами: «72-х» (1925), «75-ти» (1928) и др.
Не может не вызвать возмущения то, как в издании рассказывается о периоде Великой Отечественной войны, да и сам этот термин не употребляется – только Вторая мировая. Все значимые события, охватывающие судьбоносные и для города, и для Беларуси, и для всего мира 1939-1945 годы, всунуты (другого слова нельзя и найти) в два объединённых параграфа! Уже с первых страниц возникает вопрос: это белорусская или польская книжка? Разумеется, упомянутый «таинственный» (видимо, имелось в виду «тайны») пакт Молотова-Риббентропа. Рубрики «Факт истории» (с. 255) и «Свидетель событий» (с. 256) подают начало войны исключительно с польской точки зрения. Подчёркнуто это и использованием терминов, которые не очень распространены в отечественной историографии, например, «За первыми советами».
Совсем коротко, буквально вскользь вспоминается Гродненское восстание 1939 года. А ведь это было значительное событие: им гродненцы действительно могут гордиться! Рабочие города сформировали вооружённые отряды, освободившие из тюрьмы около 200 политзаключенных, начали разоружать полицию. Выступлением руководил комитет во главе с Филиппом Пестраком (кстати, известным белорусским писателем). Каратели жестоко расправлялись с повстанцами, было убито 25 человек. Жертв могло быть и больше, если бы не стремительное наступление Красной Армии.
В общем, авторы так стараются поскорее рассказать о сталинских репрессиях, которые начались в 1939 году, что между прочим переворачивают целые страницы истории. В двух предложениях кратко упоминается о таком явлении, как «временное правление». Оно было создано после изгнания польской власти — интересный эпизод городской истории. Кстати, правление существовало с сентября по декабрь 1939 года. Читатель «Гродноведение» так и не узнает, каким образом город вошёл в состав Беларуси. На с. 258 написано буквально следующее: «В марте-декабре 1940 года, после событий Белостокского съезда, начались выборы в местные исполнительные органы власти». Тут вообще бред. «События Белостокского съезда» — это народное собрание Западной Беларуси, которое было избрано населением 22 октября и проходило 28-30 октября 1939 года. На нём была законодательно оформлена воля народа Западной Беларуси о воссоединении с БССР. А в 1940 году состоялись выборы в советы, которые, к сведению авторского коллектива, в соответствии с Конституцией СССР 1936 года и Конституцией БССР 1937 года являлись не исполнительными, а представительными органами государственной власти. Исполнительные и распорядительные органы формировались уже непосредственно самими советами. Складывается впечатление, что авторы мало знакомы с образом советской жизни, а систему органов управления не знают вообще. Чего стоят одни только формулировки: «… состоялась первая сессия городского совета. Первым секретарем горисполкома был избран бывший заместитель председателя Могилёвского облисполкома 42-летний Петр Ратайко» (с. 259). Как известно, первый секретарь — это руководитель партийной организации, а исполкомы возглавляли председатели. Без внимания авторов остался и административно-территориальный раздел. Не сказано также, что в то время город входил в Белостокскую область.
События непосредственно Великой Отечественной войны раскрыты, мягко говоря, непонятно. Достаточно сказать, что деятельность подпольщиков и освобождение города от немецко-фашистских захватчиков объединены в один небольшой подпараграф «Антифашистская борьба». При этом она намеренно представлена как сражение отдельных небольших групп. Сказано лишь, что «группы наладили тесные контакты между собою, а с течением времени — и с партизанами» (С. 269). И всё! На самом же деле в Гродно действовала одна из самых крупных и героических подпольных организаций в Беларуси, которой с июля 1943 года руководил Белостокский подпольный обком КП(б)Б. Для организации молодёжи был создан Гродненский подпольный горком ЛКСМБ. Была налажена тесная связь с партизанскими бригадами имени Ленинского комсомола и имени Кастуся Калиновского, спецгруппой Красной Армии. Из героических приведены только поступок ксёндза М. Кольбе. Его изображение – единственный портрет участника антифашистской борьбы в городе. Всё остальное показалось авторам незначительными мелочами на фоне «европейской истории». При описании освобождения города — снова обидная нечистоплотность авторского коллектива — на с. 270 утверждается, что бои за город шли с 13 по 24 июня (!) 1944 года. Разумеется же, июль. Не ищите в этой книге сведений о знаменитых гродненцах на фронтах войны, Героях Советского Союза, уроженцах города – их здесь нет. Зато помещён снимок советских военнослужащих со странной подписью: «Другие Советы». Власть Москвы возвращается в Гродно, на этот раз надолго». Позиция авторов вполне понятна. Но с исторической точки зрения эти термины некорректны. Да, Москва была союзным центром, но белорусы имели собственное государство — БССР — со своим руководством. Игнорировать данный факт — значит искажать отечественную историю.
Особенно тенденциозность изложения материала проявляется, когда речь идёт о советском послевоенном времени. У авторов не нашлось ни слова ни про одного руководителя города и области этого периода, кроме скромного перечня в самом конце. Хотя на предыдущих страницах размещены фотографии и российских губернаторов, и даже губернаторов Гродно в короткое время французской оккупации. Возможно, им не нравится то, что делали эти люди. Но разве не заслужил нескольких слов Леонид Герасимович Клецков, знаменитый первый секретарь Гродненского обкома КПБ (на протяжении 17 лет!), именем которого названа одна из улиц города? Либо председатели Гродненского облисполкома — Сергей Терентьевич Кобяк и Дмитрий Константинович Артименя?
Доходит и до прямой подтасовки фактов. В книге упомянуто, что якобы В. Быков, А. Карпюк, Б. Клейн «критиковали насильственную политику тогдашнего руководства СССР в Чехословакии 1968 г.» (С. 289). Их гражданская позиция названа «близкой к позиции известных советских диссидентов Андрея Сахарова, Александра Солженицына, Владимира Буковского». Насчёт Б. Клейна не скажу, так как не знаю обстоятельств его жизни. А вот сравнивать В. Быкова и А. Карпюка с диссидентами, мягко говоря, преувеличение. Судьба диссидентов известна, включая тех, кто выступал против ввода войск в Чехословакию. А. Сахарова не спасли даже три звезды Героя Соцтруда. А вот Быков при всей своей «оппозиционности» был очень успешным в советское время: избирался депутатом Верховного Совета БССР, стал лауреатом Ленинской и Государственной премий, народным писателем, а в 1984 году даже Героем Социалистического Труда. Диссидентам обычно так не повезло! Да и сам Василий Владимирович никогда не утверждал, что в 1968 году выступал с критикой советской власти. В этом может убедиться каждый, кто прочитал его «Долгую дорогу домой». Из неё мы знаем также, что и А. Карпюк не только не выступал против ввода войск, но даже был мобилизован в то время в армию и очень этому радовался.
Последние страницы книги вообще превращаются из истории Гродно в «краткий курс истории одной сообщества» – Белорусского народного фронта. При этом читателя заводят далеко в сторону от Гродненщины. Речь идёт только об одном политическом течении в общественной жизни страны: содержатся справки о руководителях, агитационные листовки и т.д. Используются откровенно пропагандистские штампы, например, «Николай Маркевич — единственный демократический депутат Верховного Совета XII созыва от г. Гродно». Что значит эта формулировка? А остальные депутаты были против демократии? На каких основаниях авторы делают такой вывод?
В самом финале приведены герб и флаг, принятые в качестве государственных в 1991 году. И ничего не сказано, как на основании решения всенародного референдума 1995 года они были заменены на те, что существуют сейчас!
При написании этой рецензии даже трудно поставить точку. Ведь перечислять все нелепости «Гродноведения», кажется, можно бесконечно. Однако и приведённых примеров достаточно, чтобы сделать определённые выводы.
Авторы ставили цель написать европейскую историю европейского города. Получилось что-то курьёзное. Они якобы стремились к тому, чтобы их книга воспитывала патриотов. Трудно сказать, патриоты какой страны вырастут, прочитав мешанину очень хорошей археологической фактуры, тенденциозно представленных фактов, замалчиваний и пропагандистской риторики. Да ещё написанную плохим языком с ошибками. На мой взгляд, не Беларуси точно.
Вадим Гигин, кандидат исторических наук, доцент
Литература
1. Черепица, В.Н. Очерки истории Православной Церкви на Гродненщине (с древнейших времен да наших дней): в 2 ч. / В.Н. Черепица. – Гродно, 2000–2005.
2. Черепица, В.Н. Гродненский Православный некрополь / В.Н. Черепица. – Гродно, 2001.
3. Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі: матэрыялы міжнар. навук. канф., Менск, 25 верасня 2009 г. – Мінск, 2011.
4. Швед, В.В. Торговля в Беларуси в период кризиса феодализма (1830–1850-е годы) / В.В. Швед. – Гродно, 1995.
5. Гродно: энциклопедический справочник / Под ред. И.П. Шамякина. – Минск: БелСЭ, 1989.
6. Гродназнаўства: дапам. / А.П. Госцеў [і інш.]; пад агульн. рэд. В.В. Шведа, В.Р. Карнелюка. – 2-е выд. – Гродна, 2010.
7. Греков, Б. Киевская Русь / Б. Греков. – М., 2004.
8. Аляксееў, Л.В. Гродна і помнікі Панямоння / Л.В. Аляксееў. – Мінск, 1996.
9. Копысский, З.Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в XVI – первой половине XVII вв. / З.Ю. Копысский. – Минск, 1975.
10. Сагановіч Г. Невядомая вайна: 1654–1667 / Г. Сагановіч. – Мінск, 1995.
Беларуская думка, №6, 2013
Перевод Александра Флегентова

